- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Заказать консультацию
Содержание наградного правоотношения
Перспективный путь разрешения проблемы «права на награду» представляется не на пути усложнения субъектного состава наградного правоотношения, а на пути уяснения содержания этого правоотношения.
В.В. Савичев, анализируя содержание диспозиции поощрительной нормы, предложил включать в ее содержание право и обязанность должностного лица (органа) предоставить определенную меру поощрения, а также право граждан требовать ее предоставления за полезный для общества и государства вариант поведения.
Однако автор не уточнил, каким образом «обязанность поощрить» одновременно является «правом поощрить» с учетом того, что субъектами поощрительного правоотношения, по мнению В.В. Савичева, являются только поощряющий и поощряемый.
Остался открытым и вопрос о том, какой обязанности поощряемого корреспондирует «право поощрить», имеющееся у поощряющего субъекта.
Другая попытка конструирования содержания поощрительного правоотношения, принадлежащая М.Г. Седельниковой, на наш взгляд, также не вполне удачна. Автору не удалось безоговорочно сформулировать и жестко увязать между собой права и обязанности субъектов поощрительного правоотношения, из-за чего были сделаны различные теоретические усложнения, запутавшие всю конструкцию. М.Г. Седельникова полагала, что существует не одно, а целый комплекс поощрительных правоотношений, в силу чего определение поощрительного правоотношения может быть дано лишь в качестве обобщающего.
Такая трактовка поощрительного правоотношения недопустима. Вряд ли можно отрицать, что в наградном правоотношении определенными возможностями (как логическими модальностями) обладают и награждающий, и награжденный. Однако очевидно и то, что оппозиция «право наградить – право быть награжденным» не может быть названа правоотношением.
Интересно, что М.Г. Седельникова не видела в этом пункте противоречия, полагая, что в большинстве случаев у поощрителя отсутствует обязанность поощрять достойных, отличившихся работников, поэтому достижение работником поощряемого результата является основанием для возникновения связи по типу «право – право», то есть содержание правоотношения составляет право поощрителя на применение мер поощрения и право работника на справедливую оценку его труда.
С таким подходом к решению вопроса о наградном (поощрительном) правоотношении согласиться трудно, ведь в таком случае придется отрицать само существование правоотношения в его общепринятом понимании, то есть как корреспондирующих друг другу прав и обязанностей. Но и считать субъективные права, входящие в содержание наградного правоотношения, в качестве правовых явлений другого рода также весьма затруднительно, поскольку нельзя определенно сказать, в качестве каких правовых явлений следует квалифицировать такие «субъективные права» и связь между ними.
Так, невозможно считать «право на награду» секундарным правом.
Во-первых, секундарному праву корреспондирует не другое секундарное право, а правовая связанность, которая является неким подобием юридической обязанности.
Во-вторых, секундарные права – это явления из сферы гражданского (частного) права, и их содержанием, по определению основоположника данного учения Э. Зеккеля, выступает возможность установить конкретное правоотношение посредством односторонней сделки.
Наконец, в-третьих, секундарные права не являются правами требования, что также не позволяет применять учение о секундарных правах ни к «праву наградить», ни к «праву на награду».
Н.А. Гущина предпринимала попытку представить «право на награду» как законный интерес. По ее мнению, согласно многим поощрительным нормам субъекты могут быть поощрены при особых условиях, и это означает, что у субъектов есть законный интерес, реализация которого во многом зависит от усмотрения компетентного органа. Однако субъект не обладает правомочием требовать соответствующего поведения от обязанных должностных лиц, поскольку правовой интерес как разрешенность общего характера твердо не гарантирован.
С такой точкой зрения также нельзя согласиться. Затруднение при квалификации «права на награду» как законного интереса состоит в том, что законный интерес – это юридическая дозволенность, имеющая, в отличие от субъективного права, характер правового стремления.
Однако в случае награды речь ведется о благе совершенно конкретном (о самой награде), причем благо это сообщается награждаемому в одностороннем порядке усмотрением награждающего субъекта, независимо от стремления к награде со стороны награждаемого.
Совершая подвиг, награждаемый мог не иметь интереса в получении награды, не предполагать даже возможности награждения, а после награждения, совершенного без его ведома, мог оказаться уже перед этим свершившимся фактом. Более того, у награждаемого случается и противоположное стремление – избежать награждения (тогда он заявляет отказ от награды), что вообще не позволяет говорить о законном интересе награждаемого в получении награды.
Интересно
Затруднительно считать получение награды интересом награжденного тогда, когда подвиг был совершен путем самопожертвования, после которого заведомо исчезает (погибает) субъект такого «законного интереса», а его стремление к награде по этой причине явно отсутствует. Таким образом, если законный интерес субъективно конкретен, то «право на награду» представляется весьма неопределенным в этом отношении.
Наградные правоотношения как разновидность административно-правовых отношений складываются по поводу использования официальных наград в публичном администрировании. Отправной пункт в конструировании содержания наградного правоотношения – это сущность награды, которая многими авторами противопоставляется наказанию. Любое поощрение, как и любое наказание (взыскание), – это оценка деяния. В случае поощрения такая оценка позитивная, а в случае наказания – негативная.
Наличие в поощрении оценочного одобрительного элемента уже давно постулируется в науке, равно как начиная с Б.С. Утевского принято говорить об отрицательной оценке в наказании. Непосредственным следствием деяния выступает его квалификация, которая всегда имеет моральный (психический) аспект, иначе поощрение и наказание не могли бы достигать своих целей и выполнять роль социальных регуляторов.
В юридическом отношении оценка подвержена ограничениям, установленным данным правопорядком. В конституционных и законных рамках любое лицо вправе оценивать поведение других лиц, а этому праву корреспондирует обязанность претерпеть такую оценку.
В правовом государстве негативная оценка в той мере, в какой она связана с принуждением, подвержена строгим законодательным ограничениям, что является результатом длительного исторического процесса, причем ограничения негативной оценки обусловлены не ею самой, а связанным с такой оценкой принуждением. Поощрение же, не являясь насилием или угрозой его применения, не несет в себе такого разрушительного потенциала, поэтому государством регулируется гибко и слабо, без детализации обязанностей, запретов и ограничений.
Субъект права будет продолжительно находиться под угрозой негативного воздействия в пределах срока давности, установленного данным правопорядком. Субъект не вправе отказаться от принуждения, хотя свободен в самооценке и не обязан соглашаться с правовой оценкой, данной его деянию.
В свою очередь, принуждающий субъект вправе назначить принуждение и исполнить его, причем в правовом государстве – с соблюдением юридического равенства и недискриминации, которые связывают правоприменение и не допускают произвольного устранения в квалификации или назначении наказания.
Статьи по теме
- Восстановление в правах на награду
- Отмена награждения или лишение награды
- Разрешение правопреемства
- Передача наградных символов и документов на хранение и экспонирование в музеи
- Возвращение наградных символов и документов награждающему субъекту
- Возвращение наградных символов и документов награжденному лицу или его наследникам
- Вручение награды
- Принятие решения о награждении
- Предварительное рассмотрение представления к награде
Полезные статьи


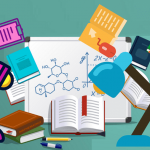






Узнайте цену услуг:
Узнай цену консультации
"Да забей ты на эти
дипломы и экзамены!”
(дворник Кузьмич)

